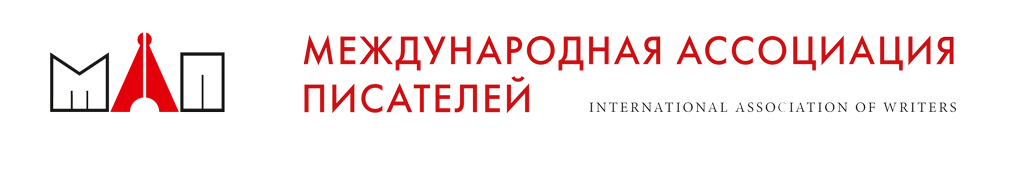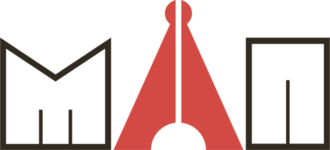– Станислав Юрьевич, как состоялось Ваше знакомство с Юрием Кузнецовым, Ваше впечатление о нём, как складывалось общение? Коллеги жаловались на него из-за жёстких правок. Каковы были Ваши личные отношения?
– Когда в 1997 году Кузнецов в разговоре со мной посетовал, что покидает издательство «Современный писатель», где и зарплату не платят, и книги почти не издают – а на что жить с двумя дочерьми? – я сразу же, без раздумий, сказал ему: «Завтра приходи ко мне в журнал. – У меня тогда после смерти Геннадия Касмынина не было заведующего отделом поэзии. – На работу будешь являться два дня в неделю». Мало кто знает, что я не просто приглашал его руководить отделом поэзии, но мыслил о том, что когда я окончательно вымотаюсь на должности главного редактора, то передам журнал именно в его руки. Ведь он был почти на десять лет моложе меня, с его именем и власти, и авторы обязаны будут считаться. Да и его общественное положение было прочнее, чем моё. Он не дразнил власть имущих письмами в ЦК, как это делал я, не выступал на таких рискованных дискуссиях, как «Классика и мы». Ему и только ему, истинному поэту и патриоту России, я мечтал передать журнал. Но, к несчастью, судьба решила иначе. Конечно, я пошёл на большой риск, приглашая на рутинную работу и взяв себе в подчинённые поэта с таким талантом и с таким характером. Он сразу поставил мне условие – не вмешиваться в работу отдела поэзии. Но у главного редактора всегда есть свои соображения, и я, приняв его «ультиматум», выторговал у Кузнецова свою «квоту» – когда мне нужно кого-то, по разным соображениям, напечатать – чтобы и он не вмешивался. На том и порешили. Я весьма редко пользовался своей «квотой», так что Юра был полным хозяином поэзии. Вкус у него был отменный. Правда, иногда он очень жестоко «редактировал» поэтов, особенно своих учеников, они бегали ко мне жаловаться, но я разводил руками: «Терпите и гордитесь, что ваши стихи правит сам Кузнецов!» А личные наши отношения были дружескими. Мы с ним объездили чуть ли не всю Россию, выступая на литературных вечерах журнала. За время работы в журнале он опубликовал на его страницах более двухсот своих стихотворений, свод поэм о жизни Христа, перевод великой поэмы Митрополита Иллариона «О законе и благодати», свои «Воззрения о русской литературе» и мировой истории. Это была самая счастливая пора его творческой жизни! Всего шесть лет. Каковы были наши личные отношения – об этом можно судить по дарственным надписям на его книгах, которые он дарил мне: «Станиславу Куняеву с любовью и уважением. Юрий Кузнецов. 13.11.74 года», «Станиславу Куняеву от верного ему человека. Юрий Кузнецов. 26.02.87 г.», «Станиславу Куняеву, старшему собрату по перу и духу. На память. Юрий Кузнецов. 25.06.96 г.», «Станиславу Куняеву, расчистившему мне путь в поэзии. Ю. Кузнецов. 31.05.99 г.» и т.д. Конечно, «подарочные надписи» на книгах, как правило, сочиняются с некоторым «избытком» добрых слов и высоких чувств, но в стихах истинные поэты не позволяют себе лукавить, ибо они служат поэзии, а не поэзия им. Вот поэтому я особенно ценю короткое стихотворение Кузнецова, написанное перед крушением СССР, когда он ещё не работал в журнале:
Станиславу Куняеву
Жизнь прошла, а значит, будь спокоен.
В общей битве с многоликим злом
Ты владел не рукопашным боем –
Ты сражался духом и стихом.
В этот день, когда трясёт державу
Божий гнев, и слышен плач и вой,
Назовут тебя друзья по праву
Ветераном третьей мировой.
Бесам пораженья не внимая,
Мы по чарке выпьем горевой,
Потому что третья мировая
Началась до первой мировой.
Когда на душе у меня тяжело, я вспоминаю это стихотворение и чувствую, что жизнь прожита не напрасно. Благодарю тебя, Поликарпыч.
– Как Кузнецов понимал миссию поэта? Многие корили его за высокомерие, говорили о его гордыне, которая, судя по вашей публикации, исходила не из личной самооценки, а из осознания роли поэта. «Поэт всегда прав, – говорил Кузнецов. И ещё – «Звать меня Кузнецов. Я один, / Остальные – обман и подделка».
– Кузнецов относился к поэзии, как к некой могучей стихии, существующей в мире помимо нас, стихии, которая во время «вдохновенья» «накатывает» на нас, приподнимает от быта, от низменной жизни нашу сущность, соединяет нашу душу с вечностью, которая является к нам в виде сновиденья, наважденья, прозренья, ясновиденья, и тогда поэт изрекает то, что люди потом назовут «истиной» в высшем смысле слова. У Пушкина это состояние точнее всего выражено в стихотворении «Пророк», у Тютчева эта стихия тоже имеет Божественное происхождение и выражена в строках: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые! / Его призвали всеблагие как собеседника на пир». Истинный поэт – это «собеседник богов». У Блока подобные чувства высказаны посвоему, поскольку он был детищем Серебряного, а не Золотого века: «Пускай я умру под забором, как пёс, / Пусть жизнь меня в землю втоптала, – / Я верю: то Бог меня снегом занёс, / То вьюга меня целовала!» У Николая Рубцова было своё понимание сверхъестественной силы поэзии: «И не она от нас зависит, / А мы зависим от неё…». Своё «крещение» этой сверхъестественной силой получил Юрий Кузнецов в юности, о чём писал:
Спор держу ли в родимом краю,
С верной женщиной жизнь вспоминаю,
Или думаю думу свою –
Слышу свист, а откуда – не знаю.
…………………………………….
И с тех пор я не помню себя:
Это он, это дух с небосклона!
Ночью вытащил я изо лба
Золотую стрелу Аполлона.
А в конце жизни он почувствовал прикосновение к своему лбу ладоней самого Спасителя. Вот почему Кузнецов утверждал, что поэт «всегда прав», ибо выражает «высшую правду».
– Кузнецова, как и Рубцова, называли поэтом мистическим и загадочным. В своей книге о Кузнецове Вы пишете: «Объём знаний о мире был ему дан сразу, а потому он жил и писал, отстраняя от себя многое, что связано с возрастом, личной жизнью, реальными событиями, лирическим воздухом». Что Вы имели в виду?
– Он удивительным образом умел совмещать высшие тайны мирового Бытия с простыми картинами народной жизни, с судьбами и словами живущих рядом с нами русских людей. Вот его стихотворение «Последний человек»:
Он возвращался с собственных поминок
В туман и снег, без шапки и пальто,
И бормотал: – Повсюду глум и рынок,
Я проиграл со смертью поединок,
Да, я ничто, но русское ничто.
…………………………………………….
– Всё продано, – он бормотал с презреньем, –
Не только моя шапка и пальто.
Я ухожу. С моим исчезновеньем
Мир рухнет в ад и станет привиденьем –
Вот что такое русское ничто.
Глухие человека не слыхали,
Слепые человека не видали,
Немые человека замолчали,
Зато все остальные закричали:
– Так что ж ты медлишь, русское ничто?!
Кто персонаж этого стихотворения – сам поэт или бомж, встретившийся ему в ночной страшной Москве 1993 года? Кто бы он ни был – это Последний Человек с большой буквы, понимающий, что крушение России – «удерживающей» равновесие в мире – это крушение всей мировой истории. А кто «остальные», кто подталкивает Россию к пропасти? – Да мало ли их! Когда сейчас русофобы выливают на Россию потоки клеветы, в этот «момент истины» кузнецовский «последний человек» вырастает до великого мифологического символа и отвечает хулителям России как мудрец и провидец, как богатырь духа, понимающий, что без России «мир рухнет в ад и станет привиденьем». Он словно бы говорит лицемерным радетелям о правах человека: «Да Вы понимаете – чего Вы натворили?» Вот что такое мифологическое мышление русского поэта, «последнего человека» Юрия Кузнецова.
– Кузнецов не признавал авторитетов. Он спорил с Пушкиным, писал о Блоке: «Когда я я усмотрел в моём любимом Блоке провалы духа, условный декор и духовную инородность и отметил это в поэме «Золотая гора», то вызвал волну лицемерного возмущения: как-де посмел! И стали открывать такое: я не согласен с Пушкиным! Я жесток к женщине! У меня не коллективный разум!!» Что он имел в виду, когда спорил с Пушкиным, Блоком, почему был жесток к женщинам?
– Александр Блок, при всём своём великом таланте и способности к мистическим прозрениям, всё-таки дитя декадентского Серебряного, а не Золотого пушкинского века. Недаром же великий народный поэт России Сергей Есенин называл его «голландцем на русских полях». И Юрий Кузнецов это понимал, когда писал в поэме «Золотая гора»: «Мелькнул в толпе воздушный Блок, / Что Русь назвал женой / И лучше выдумать не мог / В раздумье над страной». Да и о молодом Пушкине Кузнецов в той же поэме сказал правду, что на мировом поэтическом Олимпе, «где пил Гомер, где пил Софокл, / Где мрачный Дант алкал, / Где Пушкин отхлебнул глоток, / Но больше расплескал»… Действительно, пока молодой увлекающийся Пушкин зачитывался в лицее творчеством антихристианского французского стихоплёта Парни, пока боготворил фернейского циника Вольтера, пока боготворил Байрона, то, конечно, он «расплёскивал» свой божественный талант… А к женщинам Кузнецов был не жесток, а скорее справедлив. Он отдавал должное их жертвенному обаянию, когда писал о голосе любимой женщины: «Он звенит, он летит, он играет, / Как малиновка в райском саду. / Даже платье твоё подпевает, / мелодично шумит на ходу. / Даже волосы! Каждый твой волос от дыханья звенит моего. / Я хотел бы услышать твой голос / Перед гибелью света сего». Какая тут жестокость – тут сплошное благоговение и восхищение! Но поэт, конечно же, помнил слова Блока о том, что женщина, когда пишет стихи, чувствует за своей спиной всего лишь мужчину, а надо чувствовать Бога. И «перед гибелью света сего» – и есть ощущение страшного суда и Божьего присутствия. А если говорить о «жестокости», то самым жестоким по отношению к женщинам был любимый поэт Кузнецова Михаил Лермонтов, написавший стихи о царице Тамаре. Да и Пушкин иногда был немилосерден по отношению к женщинам, когда писал сказку «О рыбаке и рыбке», об алчной старухе, или когда писал в письме к Вяземскому, что «женщины в молодости живут страстями, а в старости – сплетнями».
– Главным в творчестве Кузнецова считают трилогию о Христе, поэму «Сошествие в ад» и незавершённую «Рай». Задача которой – по словам Кузнецова – приблизить Христа к душе русского человека. Каким было его понимание христианства? Что он имел ввиду и почему, когда его сравнили с Данте, он сказал: «Данте мелко плавал по сравнению со мной».
– Поэмы Кузнецова о Христе очаровали меня тем, что показали мне «живого Христа». Чудо состояло в том, что, читая их, я будто бы переносился во времена раннего христианства с его простодушием, с его восторженными надеждами на перемену жизни, с его свежестью чувств и трогательной евангельской наивностью Нагорной Проповеди. Впечатление от чтения первых глав было таково, как будто вера рождалась у меня прямо на глазах, словно я был одним из свидетелей или даже участников Преображения мира. Поистине поэма «Путь Христа» стала вторым рождением поэта Юрия Кузнецова. Однако моё решение опубликовать первую часть поэмы вдруг натолкнулось на сопротивление моего старшего товарища, писателя и священника Ярослава Шипова, который был членом редколлегии журнала, и общественное литературное мнение считало его своеобразным духовником «Нашего современника». Он, прочитав первую часть поэмы, твёрдо заявил мне, что печатать её нельзя, что хула на Духа Святого непростительна и что если я напечатаю поэму, то он порвёт с журналом. …Я ответил Шипову, что если мы не напечатаем поэму, то совершим преступление против русской литературы, но на всякий случай попросил моих близких друзей – Вадима Кожинова, Владимира Личутина, Владимира Крупина – прочитать её, а также решил показать поэму кому-нибудь из священников и богословов, знающих и любящих русскую поэзию. На эту мою просьбу откликнулись протоиерей Александр Шаргунов, поэт и богослов Николай Лисовой и священник, автор журнала, отец Дмитрий Дудко. Все они, кроме Александра Шаргунова, высказались за публикацию поэмы. Историческое значение поэмы «Путь Христа» для русской поэзии состоит хотя бы в том, что после неё уже невозможно представить себе богохульного рифмованного «Евангелия от Демьяна Бедного», написанного по заказу воинствующего безбожника Емельяна Ярославского (Минея Губельмана), или новаторских антихристианских пошлостей плейбоя хрущёвской эпохи, одного из легиона детишек XX съезда Андрюши Вознесенского: «Чайка – плавки Бога», «Крест на решётке – на жизни крест», у которого «смазливая кассирша» в полукруглом окошке кассы – это «богоматерь», а компания битников-наркоманов в лондонском Альберт-холле – это «мини-Содом», милый его душе. Откровеннее его был лишь Окуджава: «Мы земных земней. И вовсе / К чёрту сказки о богах!»… Почему-то никто из наших идеологов и критиков не обращал на эти хулиганства внимания, а на поэму Кузнецова навалились скопом… Но как бы ни оценивать «Путь Христа», для меня совершенно ясно, что, несмотря на множество оговорок, сомнений и возражений тех, кто считал невозможным любое расширенное толкование евангельских сюжетов, для Юрия Поликарповича создание этой поэмы было его личным собственным путём к Богу и спасению души. И, конечно же, он был прав, сказав, что «Данте мелко плавал по сравнению со мной». На чём держится вся поэма Данте? – На том, что автор отправил всех своих политических противников в ад… А поэма Кузнецова, повествующая о жизненном и смертном подвиге Спасителя – поражает своей поэтической глубиной и религиозным благоговением…
По сравнению с ней Дантовский ад – это просто весьма примитивный политический памфлет средневековой эпохи.
– На стихи Кузнецова более половины репертуара Казачьего хора. Какова его патриотическая лирика? Что он вкладывал в понятие патриотизма? Был ли он государственником? Многие считают его поэзию чересчур сложной, чересчур мифологической для простого неискушённого читателя. Справедливо ли это?
– Кузнецов ничего не «вкладывал» в понятие патриотизма. Он жил им. Его патриотизм естественен, как человеческое дыхание. Глубина мифологического дыхания у него чудесным образом сопрягалась с живым русским просторечием. Выступая с ним на многих литературных вечерах во время поездок по России, я помню, как переполненные залы рукоплескали ему, как его стихотворение «Маркитанты», где речь идёт о разделении человечества на два психологических типа – героев-лейтенантов и мародёров-маркитантов – мгновенно понималось нашими читателями и слушателями, и герои-лейтенанты понимались ими как герои всех народно-патриотических войн России – с полчищами татаро-монголов, с польскими интервентами 1612 года, с наполеоновской ордой, с гитлеровскими полчищами в обугленных кварталах Сталинграда. Помню, как залы аплодировали его стихотворению «Тегеранские сны», в котором лукавый Черчилль заявляет, что во сне его назначили «руководителем планеты». Надменный Рузвельт берёт выше – ему приснилось, что он «руководитель Вселенной». Но Сталин, выслушав их, пресёк амбиции своих тщеславных союзников:
Раздумьем Сталин не смутился,
Неспешно трубку раскурил:
– Мне тоже сон сегодня снился –
Я никого не утвердил!
Государство для Кузнецова – это мистический, мифологический, рождённый усилиями всего народного тела и отнюдь не примитивно-бюрократический организм. А с какой глубиной и поэтическим вдохновением написано его стихотворение о Генеральном штабе!
Карта мира и битвы богов,
Имена и повадки врагов,
Грозный шорох военных томов,
Узел духа, машина умов –
Тишина Генерального штаба.
Кровь святая бумаги кропит,
Дым и пепел победы летит,
Светит слава, эпоха глядит,
Как губами война шевелит
В тишине Генерального штаба.
А если вспомнить легендарную
«Сталинградскую хронику» Кузнецова о подвиге Алексея Ващенко, закрывшего своим бренным телом амбразуру фашистского дзота? Мы с ним, кстати, стояли рядом возле могилы этого героя, когда в юбилей Сталинградской битвы приехали на берега Волги.
Там, на небе, меж злом и добром
Дух твой светлый рванул напролом
На мятежное вражье светило.
А на нашей, на грешной Земле
Твоё тело внизу на земле
Твой небесный рывок повторило.
Читаешь и с восторгом осознаёшь, что племя лейтенантов в России бессмертно и что Юрий Кузнецов, отслуживший военную службу на Кубе во время Карибского кризиса, – великий поэт героического государства. Он даже в минуты отчаянья оставался им, когда писал о нашем «маркитантском» времени 90-х годов: «Ворюга! Сегодня ты пьёшь из горла, / Трубят твои медные трубы. / Державная щука навек умерла. / Остались ракетные зубы. / Не зарься на русский великий покой, / Пусть он остаётся за нами. / Пусть щука издохла. Не трогай рукой, / А то она клацнет зубами».
– Так можно ли считать, что Кузнецов всегда и во всём поддерживал «идею власти», её необходимость и был ли он когда-нибудь в оппозиции к ней?
– Я помню многие наши споры и разговоры на эту тему. В конце концов, мы пришли к выводу, что в России отношения художника и власти во все периоды истории были особенными и непохожими на отношения художника и власти в Европе, в Америке, словом, в странах демократии. Уже в Древней Руси литература в силу русского генотипа всегда обладала властными функциями. Вспомним, что автор «Слова о полку Игореве» учил князей той эпохи уму-разуму, вспомним «Слово о законе и благодати», в котором митрополит Илларион также поучал власть склонить голову перед божественным промыслом. А русские былины? В них живёт тот же пафос, суть которого проста: слово поэта – это слово властителя дум, не зря же у нас Иван Грозный писал стихи, имел великую библиотеку, оставил потомкам блистательную переписку с Курбским. Разве такое можно представить при дворах Генриха Восьмого или любого из Людовиков? Наш Пётр Великий не зря же приблизил ко двору Феофана Прокоповича и Кантемира. А при дворе Елизаветы и Екатерины Великой «истину царям» говорили Ломоносов, Тредиаковский, Державин. А когда Пушкин вышел после восстания декабристов из кабинета Николая I после длительного разговора с царём, царь сказал: «Я сегодня говорил с умнейшим человеком России». Разве такое могло быть при дворах Европы – в Вене, в Париже, в Лондоне? Да никогда там никто с поэтами не разговаривал. А в советское время? Великими поэтами новой эпохи были поэты революции – Блок, Маяковский, Есенин. Их знали, о них думали все вожди – и Ленин, и Троцкий, и Сталин. Сталин держал в поле зрения и Горького, и Шолохова, и Маяковского, и Булгакова, и Пастернака. Он понимал, что без «инженеров человеческих душ» новую жизнь не построишь. А как не вспомнить о том, что когда Путин избирался на второе президентство, то он перед выборами, встречаясь с избирателями в Лужниках, взошёл на трибуну с есенинскими словами: «Если кликнет рать святая: / «Кинь ты Русь, живи в раю!» / Я скажу: «Не надо рая, / Дайте родину мою». Так что традиция продолжается.
– Как Кузнецов относился к нынешним утверждениям иных историков о том, что Россия – это европейская страна, что она должна исповедовать все европейские ценности?
– Конечно, он, как все русские большие поэты, в молодости был увлечён Европой, её, по словам Достоевского, «священными камнями» и «золотыми людьми», её Шекспиром, её
Гамлетом, её Тристаном и Изольдой.
Европа! Старое окно
Отворено на Запад.
Я пил, как Пётр, твоё вино –
Почти античный запах.
Но вспомним, что Пушкин в молодости тоже писал, что ради свидания с «Италией златой» он готов «покинуть скучный брег / Мне неприязненной стихии», что он чуть ли не собирался бежать на Запад, о чём писал в романе «Евгений Онегин». Да и Блок в «Итальянских стихах» отдал дань Равенне, Данте, Петрарке. Но тот же Пушкин, возмужав, сказал как отрезал: «Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, сколь и неблагодарна». А в стихах «Клеветникам России» добавил:
Так высылайте к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
Александр Блок через 10 лет после «Итальянских стихов» написал в 1918 году знаменитое стихотворение «Скифы», в котором проклял европейское «демократическое» лицемерие. Подобный же естественный путь прошёл и Юрий Кузнецов, когда объял своим взором всю европейскую историю XX века, века коричневой европейской чумы, века, бросившегося в Drang nach Osten под знамёнами Третьего Рейха за «жизненным пространством»:
Я слышу шум твоих шагов.
Вдали, вдали, вдали
Мерцают языки штыков.
В пыли, в пыли, в пыли
Ряды шагающих солдат,
Шагающих в упор,
Которым не прийти назад,
И кончен разговор…
В сущности, этими строками из поэмы «Дом» Кузнецов продолжил пушкинскую мысль. Как живут новой жизнью сегодня, в эпоху современной холодной войны пушкинские, блоковские, кузнецовские пророчества! Поистине, Россия остаётся страной великих лейтенантов и великих поэтов!
Февраль 2016 года